🍽
KAR
KOMI
SAPMI
NOR
Я – лешуконский/мезенский помор, воспитанный в городе, продирающийся сквозь трагедию оторванности от собственной земли.
Сначала я хотел бы закрепить базу этого проекта:
империализм – это проблема,
голод и мор деревни – это последствие
собирательство – это решение.
Почему империализм – это проблема?
Большинство глобальных проблем, например, климатический кризис, рабство, войны, социальное неравенство – связаны с империализмом. Это широкое явление, но его база – это угнетение, контроль, захват одних групп людей другими группами людей. С ним же связаны выкачивание ресурсов и во многих случаях геноцид. В определениях термина «империализм» часто фигурируют слова «стран/странами» и «государств/государствами», но это не применимо для многих народов, потому что до прихода империалистов у некоторых из них не было потребности в создании страны и государства.
Россия – это имперский проект. Вся история этого государства находится в рубцах и открытых ранах от угнетения, контроля и захвата людей, территорий, их культур и ресурсов. Поморскую историю я отношу и к носителю, и к источнику рубца, потому что есть почти имперская история освоения территорий поморами, и при этом поморскую культуру подавляют, ассимилируют и апроприируют уже очень долгое время. В этом проекте меня интересуют не прецеденты, а медленные, но основательные процессы, в которых государство меняет модели поведения людей до такого масштаба, что голодают и вымирают целые деревни.
Мой прадедушка, мезенский помор, был в артели и носил цибаку. Цибака – шапка из оленьего меха с длинными «ушами», часть «традиционной» одежды помора. Цибака, как и совик (верхняя меховая одежда с капюшоном, надевается через голову), пришли в поморскую культуру от кочевых ненцев. Пришедшие на эти земли поморы были внимательны к индигенному знанию и успешно применяли его, иногда заимствуя не только чисто практическое в промысле, но и духовное в быту, как в случае куклы панки. Сейчас кукла панка – туристический бренд и люди забыли то важное значение: на ненецком слово означает «стебль» и «предок». Эту куклу клали в кровать детям, чтобы предки присматривали за ними.
Не только поморы входили в контакт с другими народами на этой территории и создавали синтезы культур. Так я вижу разное общее в коми, карелах, саами и ненцах. Но поморы единственные, кому пришлось отказаться от тех условий, в которых они когда-то существовали, научиться взаимодействовать с природой заново и из-за этого радикально изменить свой уклад жизни. Заимствования говорят нам о том, что основа систем и связей поморов с природой зачастую не знание, а приспособление, которое подтверждает некоторые до сих пор существующие зазоры в поморском собирательстве. Я вижу культуру помора похожей на сложный суп, который приготовлен из местных ингредиентов, но иногда без знания как их готовить.
Поморская культура – это пиджин* нескольких культур, который породил в себе самость, поэтому я буду часто обращаться в своём проекте к соседним культурам за помощью.
* Пи́джин — упрощённый язык, который развивается как средство общения между двумя или более этническими группами, говорящими на неродственных и/или взаимно непонятных языках, но вынужденных более или менее регулярно контактировать друг с другом в силу тех или иных объективных потребностей. К примеру, moja på tvoja – пиджин, созданный поморами и норвегами в ходе торговых отношений.
Фото №1 – Группа работников лесного хозяйства на фоне чума, в котором они жили во время работ.
Архив «Российская повседневность», Пропповский центр
Из личного архива жительницы деревни Усть-Кыма (Лешуконский район Архангельской области), 1941 год.
Также вы можете послушать историю женщины Усть-Кымы про то, как она нянчилась с детьми оленеводов и жила на лесопилке здесь:
https://daytodaydata.ru/unit/20348534
Фото №2 – Дом из сенокосной деревни Усть-Улеша (Пинежский район Архангельской области)
Сделано архитектором А.В. Ополовниковым в деревне Усть-Улеше в период с 1947 по 1975 гг. и опубликовано в книге «Русское деревянное зодчество» изд. «Искусство» 1983 год.
Фото №3 и Фото №4 – Обетный крест в деревне Усть-Нерманка (Екатерина), заброшенная деревня, где в пустующих домах живут рыбаки из окрестных деревень. Рядом – тоня для ловли семги. По местному обычаю мужики «уходят в запой» в Екатерину. Екатерина – этнографический заповедник. Обетный крест пользуется рыбаками на хороший улов, еще, говорят, помогает от женских болезней – поэтому на нем рыболовные сетки и женские трусы.
Архив «Российская повседневность», Пропповский центр
Фото №5 – Вожгора (Лешуконский район Архангельской области)
Из личного архива
Надпись на коробке: 1969. Надпись на коробке с фотопленкой: 2.06. ... в лес за червями
Архив «Российская повседневность», Пропповский центр
Фото №6, №7, №8 – Мои фото, сделанные в лесу на берегу реки Мезень около деревни Березник.
Я часто думаю о том, что такое юридические и культурные границы и как они сосуществуют с физическими, хотя бы потому, что они находятся только в двухмерном пространстве, на бумаге, и часто не вмещают в себя неприкосновенность: какими бы эти границы не были, их постоянно нарушают в корыстных или не корыстных целях. Для меня границы в этом мире похожи на что-то расфокусированное и постоянно движущееся, кажется, это ближе к природным представлениям об изменчивости окружения в пространстве и времени. Остаются ли они тогда теми «границами», о которых мы постоянно говорим? Кочевые коренные народы нечасто претендуют на вычерчивании линии вокруг себя, скорее всего, исходя из идеи, что земля принадлежит самой себе, а не людям. Также границы служат хорошим инструментом империализма. Неважно, что это – земельный надел или границы субъекта, государства. Чем активнее происходит этот процесс тем прямее линии и углы на картах и тем меньше власть имущие задумываются о локальных группах этих территорий и их жизни. Это мы можем наблюдать не в поморской истории, но в истории других угнетённых народов, а также в современных ультра-правых и неолиберальных движениях России.
Говоря о границах городов, важно учесть, что это особо быстро истощаемая система. Она съедает саму себя, тратя ресурсы и увеличиваясь за новыми денежными накоплениями, строго ограничивая себя концептуальными территориальными границами. В то время как деревня не разрастается, а появляются новые деревни, отличные от соседних.
Собирательство прививает людям эту забытую мобильность, приучая их искать новые способы для существования. Эта технология действует не за счёт высасывания и буквально истребления всего живого на ограниченной территории, а за счёт бродяжничества и бережного использования ресурсов. В этот же момент собиратели интересуются и узнают место, в котором они живут. Перемещайтесь в буферных зонах.
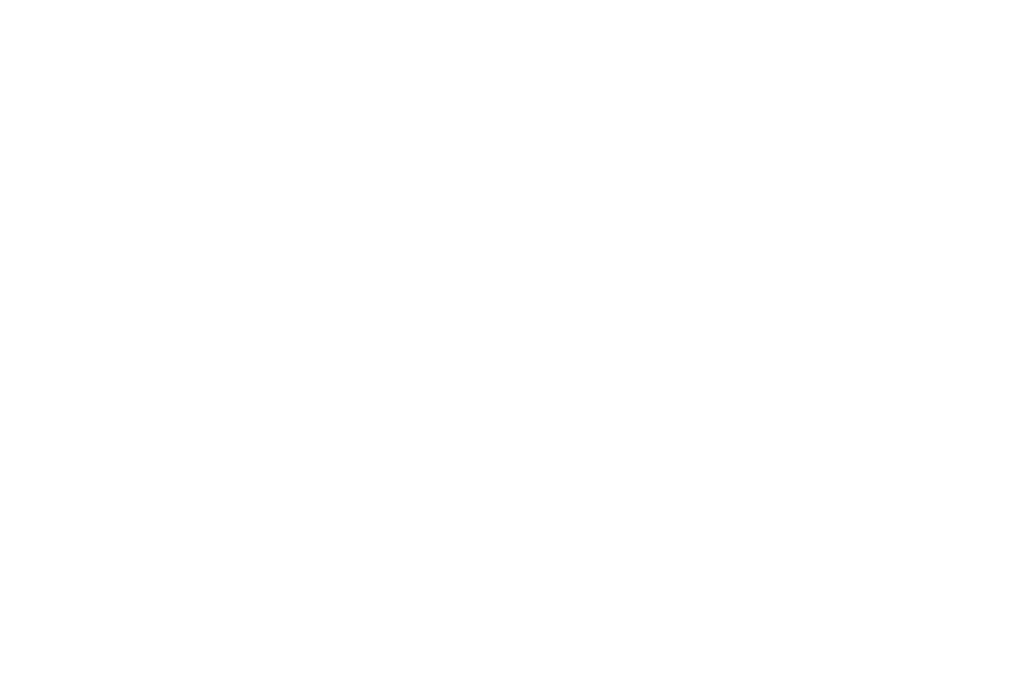
В 2006 году в Архангельске произошла депортация căldărari-табора по инициативе тогда ещё только выдвигавшегося в мэры Александра Доноского. Больше о трагедии можно прочитать здесь: https://29.ru/text/gorod/2022/07/20/71473964/
Фото №1 – Фото авторов. Мох в лесу около деревни Березник Лешуконского района.
Фото №2, 3, 4 – Вожгора (Лешуконский район Архангельской области)
Из личного архива. Надпись на коробке с фотопленкой: 1969. Август. Г. в гостях. За мохом.
Архив «Российская повседневность», Пропповский центр
Фото №5, 6, 7 – Вожгора (Лешуконский район Архангельской области)
Из личного архива. Надпись на коробке с фотопленкой: 1969. 8 сентября. 1, 3, 8 экскурсия в лес.
Архив «Российская повседневность», Пропповский центр
Фото №8, 9 – цитаты из материала
«Рацион крестьян *** Севера в конце XVIII - первой половине XIX века» А. Г. Гудков
Мох сфагнум, на ненецком языке – нярцу, многие коренные используют в качестве подгузников и устилают им люльки, так как, кроме бактерицидных свойств, он хорошо впитывает влагу и удерживает тепло. То же свойство нярцу – удерживания тепла – используют поморы: мох применяется в качестве затычек-утеплителей дома. Светлана Кольчурина, исследовательница индигенного знания на севере России, рассказывает, что во время круглого стола бывший уполномоченный по делам детей Таймыра говорил о детской смертности из-за современных подгузников, которые не выдерживают низких температур в арктических территориях. Из-за тех же государственных стандартов ненецкие дети, привыкшие к малицам** и локальным продуктам, теряют варежки и страдают расстройствами желудка в школах-интернатах.
Торф на многих болотах выделяет тепло и во время зимы, при этом кислород, из-за которого происходит гниение, в болотную воду не поступает. Это вместе с бактерицидными свойствами сфагнума делает болота отличным инструментом консервации. В деревнях холодильники могут быть бесполезными, так как существуют перебои с электричеством, это ресурс, не контролируемый напрямую людьми, а связанный с административным регулированием. Болото как «холодильник» просто существует и во многом не зависит от людей. Эта технология придумана не мной и не является достижением науки, её практиковали почти во всей Северной Европе коренные народы.
В самые нестабильное время для государства, в годы войны, структуры обращаются к локальным знаниям, чтобы, например, быть мобильными и эффективными в незнакомых местах. Так, во время Первой мировой и Великой Отечественной войн из сфагнума изготавливали повязки, руководствуясь их антибиотическими и влагоудерживающими свойствами. Знания о локальном собирательстве это не часть кризисного протокола, а бытовая практика, часть жизни.
* Мох – тундра, моховое болото. Поморы называют окружающие болота тундры собственными именами, например, Микольской мох, Парахин мох, Долгой мох, Великой мох, Купномох, Лавизмох, Щетинной мох и т.д.
Вцерась ходила на мох за морошкой. Повс.
«Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И.М. Дуров
** Малица – ненецкая верхняя одежда, где варежка соединена с рукавом.
Фото №1 – Карточка на хлеб. Архангельск, 1943 г. Из частного архива Ф. С. Агапитова.
Правда Севера. Полный материал можно прочитать здесь: https://pravdasevera.ru/2020/05/16/60b0a0b6b43ef52e7c675ea9.html
Фото №2, 3, 4 – Фото авторов. Деревня Березник, Лешуконский район.
Видео №1 – Отрывок из фильма «Кокосовая революция»
Считается, что голод и мор идут рука об руку с войной. Не может быть героического конфликта, который бы оставлял после себя жизнь, такое рассуждение свойственно для людей, солидаризирующимся с государственными манипуляциями и обещаниями: сейчас плохо, но после будет лучше.
В городах самое сложное время отводится блокадам, где люди, потерявшие знание, заточены в каменных пространствах. В то время как люди, оказавшиеся в блокаде вне города (деревнях, сёлах и буферных зонах) могут передвигаться, передавать и использовать знания о собирательстве. Позиции смирения с голодом во время войны можно противопоставить ситуацию, описанную в документальном фильме «Кокосовая революция» о борьбе коренных народов острова Бугенвиль (движение описывается как «первая в мире успешная экореволюция»). Один из участников сопротивления говорит о том, что благодарит правительство Папуа-Новой Гвинеи за введение блокады, потому что без неё не было бы развития народа, добавляя: «Никто никого не обучал – это природный талант, который мы развиваем».
В деревнях и сёлах знание о собирательстве было, но из-за войн его передача деградировала из раза в раз. Жители Лешуконского в местной газете «Звезда» говорят о том, что самое сложное время – не активные военные действия, а послевоенный период. Люди, которых отрывали от земли, уезжали в город, работали там на заводах и после войны возвращались. Им требовалось много времени на восстановление практики деревенской жизни. Также после войны возвращалось на Родину большое количество травмированных людей, как психологически (то, что сейчас называется ПТСР), так и физически, что не давало восстановить практику быстро и сохранить её (существовало неравномерное распределение тех, кому нужна еда, кров и лекарства, и тех, кто может и знает как собрать «сырьё» и трансформировать его).
Война – это трагический прецедент, но и показательный результат того, как мы относимся к земле, на которой живём, как хорошо мы её знаем.
1. Вешала, турá и корм
Фольклорных и антропологических фактов использования водорослей поморами крайне мало, возможно, из-за отсутствия личного интереса исследователя и прерванной государством передачи знания между поколениями.
Михаил Кожин – исследователь в области биогеографии, он занимается растениями, которые появились на территориях в результате деятельности поморов. Михаил родился и окончил школу в Умбе. В лекции «Растения и поморы» Кожин говорит, что отец помог ему разрешить загадку плодородия почв на тонях в областях, называемых вешалá. На вешалáх сушили сети, в сети попадали водоросли, которые осыпались при сушке сетей на землю, тем самым становились естественным удобрением. Турá, водоросль фукус по по-поморски, в настоящее время до сих пор используется в приморских сёлах как удобрение.
Поморы Кольского полуострова и Поморского берега Онежской губы кормили скот водорослями и мхом, замечая, что вольногуляющие животные сами их охотно поедают. Возможно, нам нужно обратить больше внимания на животных и перенять их повадки.
Я слышал, что водоросль анфельцию использовали в качестве мочалок, но достоверных сведений не нашёл. Хотя анфельция действительно очень похожа на мочалку.
2. Мобилизация и повседневность
С началом Великой Отечественной войны под угрозу прекращения деятельности попала Архангельская водорослевая лаборатория, в которой работала Ксения Петровна Гемп, не только знаменитая альгологиня, но и собирательница поморской культуры. Она совместно с учёными Архангельского медицинского института изучала возможность приготовления из водорослей Белого моря пищевых блюд. В ноябре 1943 года К. П. Гемп была направлена в блокадный Ленинград, где внедрила технологию производства витаминных пищевых продуктов из обнаруженных в городе запасов водорослей ламинарии (более известной как морская капуста) и анфельции (из этой водоросли создают агар-агар).
В годы войны под её руководством в водорослевой лаборатории на сырых листах ламинарии был обнаружен нативный пенициллин. Изготовленная из плесени мазь применялась в госпиталях Архангельска при лечении раненых.
С момента объявления мобилизации Архангельский водорослевый комбинат, продолжатель дела лаборатории, в пять раз увеличил производство антибактериальных медицинских повязок.
Великая Отечественная война послужила толчком для переизобретения (я говорю так, потому что данные технологии давно были выработаны коренными) водорослей с помощью науки. Академические институции и структуры в антропологических исследованиях воспринимают водоросли как ресурс только в кризисные времена и мобилизуют свои интеллектуальные силы во время войны, активнее изучая собирательство. Колонисты пишут об использовании водорослей как о кризисной мере и обращают внимание на них вновь только в условиях кризиса. Локальным же группам не нужен кризис, водоросли вписаны в их повседневность.
Дополнительные материалы к этой части:
https://youtu.be/lO5vdWVOC4g?si=ypaocJ95Br3TIkYk
https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2014/14kp240/
https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2022/22kp585/32/
https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/15kp088/2/index.html
https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2023/23kp227/
https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2023/22kp741/55/#zoom=z
Фото №1 – Ламинария и советские лабиринты
Фото №2 – Ebeltoft Tangdiger
Фото №3 – Выброшенная на берег тура на Яграх, фото авторов
Фото №4 – Шойна
1. Вешала, турá и корм
Фольклорных и антропологических фактов использования водорослей поморами крайне мало, возможно, из-за отсутствия личного интереса исследователя и прерванной государством передачи знания между поколениями.
Михаил Кожин – исследователь в области биогеографии, он занимается растениями, которые появились на территориях в результате деятельности поморов. Михаил родился и окончил школу в Умбе. В лекции «Растения и поморы» Кожин говорит, что отец помог ему разрешить загадку плодородия почв на тонях в областях, называемых вешалá. На вешалáх сушили сети, в сети попадали водоросли, которые осыпались при сушке сетей на землю, тем самым становились естественным удобрением. Турá, водоросль фукус по по-поморски, в настоящее время до сих пор используется в приморских сёлах как удобрение.
Поморы Кольского полуострова и Поморского берега Онежской губы кормили скот водорослями и мхом, замечая, что вольногуляющие животные сами их охотно поедают. Возможно, нам нужно обратить больше внимания на животных и перенять их повадки.
Я слышал, что водоросль анфельцию использовали в качестве мочалок, но достоверных сведений не нашёл. Хотя анфельция действительно очень похожа на мочалку.
2. Мобилизация и повседневность
С началом Великой Отечественной войны под угрозу прекращения деятельности попала Архангельская водорослевая лаборатория, в которой работала Ксения Петровна Гемп, не только знаменитая альгологиня, но и собирательница поморской культуры. Она совместно с учёными Архангельского медицинского института изучала возможность приготовления из водорослей Белого моря пищевых блюд. В ноябре 1943 года К. П. Гемп была направлена в блокадный Ленинград, где внедрила технологию производства витаминных пищевых продуктов из обнаруженных в городе запасов водорослей ламинарии (более известной как морская капуста) и анфельции (из этой водоросли создают агар-агар).
В годы войны под её руководством в водорослевой лаборатории на сырых листах ламинарии был обнаружен нативный пенициллин. Изготовленная из плесени мазь применялась в госпиталях Архангельска при лечении раненых.
С момента объявления мобилизации Архангельский водорослевый комбинат, продолжатель дела лаборатории, в пять раз увеличил производство антибактериальных медицинских повязок.
Великая Отечественная война послужила толчком для переизобретения (я говорю так, потому что данные технологии давно были выработаны коренными) водорослей с помощью науки. Академические институции и структуры в антропологических исследованиях воспринимают водоросли как ресурс только в кризисные времена и мобилизуют свои интеллектуальные силы во время войны, активнее изучая собирательство. Колонисты пишут об использовании водорослей как о кризисной мере и обращают внимание на них вновь только в условиях кризиса. Локальным же группам не нужен кризис, водоросли вписаны в их повседневность.
Дополнительные материалы к этой части:
https://shop.gmig.ru/solovki – Соловки. Историко-археологические памятники Соловецкого архипелага (вне Кремля). Регистрационное обследование 1934 года
https://batenka.ru/resource/shoyna/ – Шойна: посёлок уходит в песок
https://takiedela.ru/2017/09/podvodnye-kosari/ – Подводные косари
https://www.vogue.com/article/reclaiming-native-knowledges-through-kelp-farming-in-cordova-alaska – Reclaiming Native Knowledges Through Kelp Farming in Cordova, Alaska
Tangdiger
Сеть, оставленная на даче / Ловушка «морда» из нашего деревенского дома
Нейросети, которые используются в приложениях по определению грибов и растений, – это память предков, которая превратилась в технологию, продолжение глаз моего дедушки, который знает, как отличить дягель лесной от его ядовитого брата-близнеца. Он говорил, что его пищеварение улучшилось, когда он ел его сладкий, мягкий, молодой корень по весне. Весной часто не хватает витаминов, ведь все запасы истощаются, а до сбора новых нужно ждать, дягель – технология, созданная не человеком и не только для человека.
Дягель внешне очень похож на инвазивный для Поморья борщевик Сосновского. Борщевик Сосновского – ядовитое растение, но некоторые другие виды борщевика полезны, из дедели поморы варили суп. Кроме этого, борщевик похож на сныть, из которой в Каргопольском районе женщина, восстанавливающая культуры, как, например, дикую фиолетовую морковь, делает пироги. Я подумал, что борщевик Сосновского похож на колхоз или панельный дом. Колхоз представляет собой придуманную до СССР модель промысловой артели, с тем отличием, что колхоз кормил не общину, а большие территории, в том числе и централизованные, с большим количеством посредников-невидимых-родственников. По представлениям коммунистов соседи в панельном доме общаются между собой и ведут общий быт, как и под покровом одного дома поморская семья держала даже своих животных. Инвазивные идеи и культуры имеют между собой много общего, так как первые не подразумевают связи их с существующей землёй, климатом и другими видами, а вторые – с тем же самым на культурном уровне общин.
Государственные машины обманывают нас, уводя от материального понятия Родины как земли к идее нации и идеологии, захватывая, как борщевик Сосновского, огромные территории, производя геноцид остальных культур.
В городском штабе общественной поддержки плетут маскировочные сети для войны
https://arhangelsk.bezformata.com/listnews/podderzhki-pletut-maskirovochnie-seti/120490475/
Такие невидимые родственники часто придумывают безумные идеи, оторванные от реальности, историю одного из них, Хрущёва хорошо помнят до сих пор на севере. Кукуруза – царица полей в коммунистическом государстве, но кукуруза не растёт на севере. Кукуруза – царица полей, – где практически нет полей, а только море, реки, озёра и леса. Я родился в городе, где у меня не было не только поля, но и моря, реки, озёра и леса, я живу в городе. Я родился невидимым родственником для кого-то, часто даже не для соседской общины. Поэтому этот проект про собирательство, с помощью которого я пытаюсь общаться со своей землёй и снова стать видимым для других действительных родственников.
Архангельск, 2023 год
Нейросети создают разрыв между технологией и пользователем.
Есть большая разница между рваными нейросетями знания и гниющими. Рваные сети причиняют боль. Мы покинули деревенский дом, но всё ещё знаем о нём. Мы помним о грабилке* под завалами дома. Это болезненное воспоминание, которое сложно отремонтировать. За помощью я часто обращаюсь к сетям соседей и других коренных народов, потому что сеть рвут у каждого народа по-разному но, если их наложить друг на друга, можно понять, как её сплести заново. Например, так я узнал, что в Японии готовят из корня репейника, который растёт в каждом дворе, блюдо «кимпира гобо», муку и суррогат кофе (в Мезени таким суррогатом являлся жареный ячмень в шелухе); злаковые зубровка душистая и колосок душистый, которые прорастают даже через петербуржский асфальто-каменный центр, используют в Польше в настойках, а из лишайника Пармелия, который растёт даже на деревянных заборах, во Франции, Германии и Японии делают кисели, мармелад и желе. Как важно вязать сети, так и важно, чтобы они изредка гнили. Новые синтетические сети становятся проблемой для всех морских животных, когда они попадают в море, животные становятся их непреднамеренными заложниками, ещё это один из самых больших по числу загрязнения видов мусора на Белом море. Наши нейроны похожи на эти сети. Никто не готов, чтобы они порвались, наш мозг бережёт сети, которые мы сохраняем как «мнение» и «мировоззрение». Когда мы открыты к новой информации и развиваемся, эти сети гниют в некоторых местах, и это, безусловно, сложно и грустно, но мы их не оставляем под рухнувшим домом, не выкидываем на свалку, а зашиваем новыми нитями, ремонтируем. Ветхость того, что мы делаем, и того, о чём думаем, оставляет живыми других и нас самих. Вместе с сетью по наследству всегда должна идти инструкция по починке из уст в уста, как сказка, которая будет изменяться и совершенствоваться в зависимости от изменений погоды на море и в мире. С помощью сетей поморы ловили рыбу, но как и во время плетения их (чтобы не было скучно), так и во время самого промысла (рыбака нужно «убаюкать», чтобы рыба пришла в сеть) нанимался специальный человек, рассказывающий легенды, который плёл уже другие сети, мнемонические, то есть те, которые перемещают нейронные сети из нашей головы в физическое воплощение, живое запоминание. Сеть у поморов – ещё и пай, которым измерялся вклад в общее дело, а плетение сетей создавало соседские связи. Как вязались сети, так и вязались взаимоотношения внутри общины.
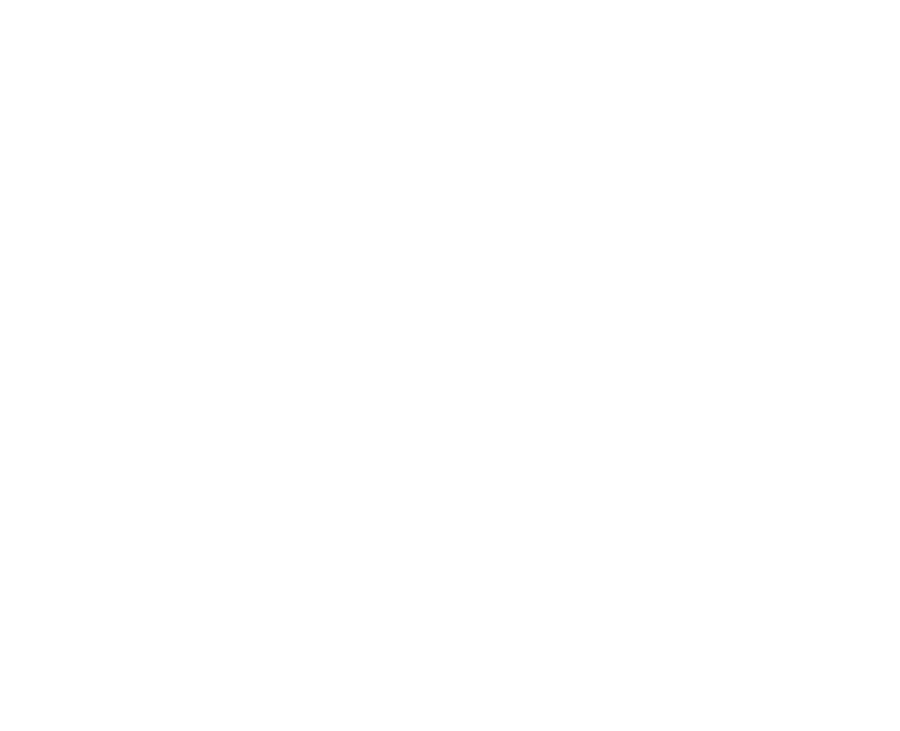
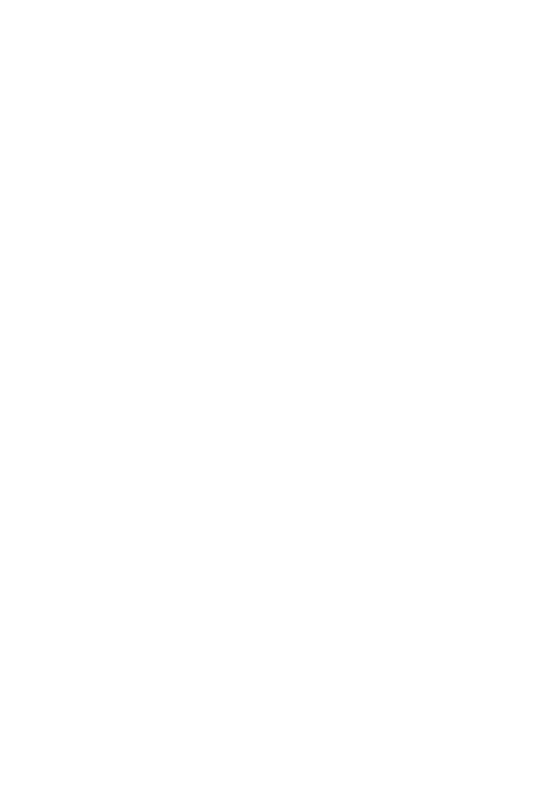
* Грабилка представляет собою деревянный совок с зубьями, подобие совка-гребня. При сборе ягод грабилкой и действуют как гребнем: проводят ею несколько раз по ягодным кустам, веточки кустарника проскакивают между зубьями грабилки, ягоды с них отрываются и остаются в совке.
– Ну, я так-то интересовался всем лесным. Я охотник, надо же для выживания, надо, полезно. Мало ли чего, заблудился или что-то. Всем этим интересовался я. В основном это сельская местность, так это, к лесу-то. Городские-то, которые сквозь асфальт проросли, им это не интересно.
– Мне сейчас интересно, но мне кажется, я через асфальт пророс.
– Ну, бывают и такие, я ничего не говорю. Значит, гены какие-то наверное.
Гены и правда играли роль, любовь к лесу – это наша семейная черта, но часто я действительно ощущаю себя тем, кто пророс сквозь асфальт, тем, кого называют «сорняком».
Некоторые время назад, когда «поморский вопрос» был чрезвычайно актуальными и набирал обороты из-за движения Ивана Мосеева, его противники часто употребляли выражение «асфальтовые поморы», то есть поморы, которые не ведут «традиционный» образ жизни, не ловят рыбу, не ходят в море, не занимаются охотой на морского зверя. Первое время у меня было отторжение, мне очень не нравилось это выражение, будто поморы – это такой одновременно вымышленный и законсервированный во времени народ, но сейчас я идентифицирую себя через это словосочетание, апроприируя его у консерваторов. Я действительно асфальтовый помор, но я не вкладываю в это негативных коннотаций. Через асфальт прорастают только самые пронырые, умеющие приспособляться к максимуму внешних раздражителей. Такие растения на полях и грядках люди называют сорняками. Крапива, лопух, мокрица, одуванчик, полынь, колоски, сурёпка, подорожник, пастушья сумка, хвощ, пижма, тысячелистник, клевер, щавель, спорыш. Для многих это беда, язва, но те, кто общается с землёй, действительно знают, что всё это – пища, одежда и лекарство. Каждое из этих растений несёт свой смысл, тот смысл, который дачные агрономы не считывают, пытаясь бороться, а не сотрудничать, говорить с этими растениями.
Есть особый вид «сорняков», которые называют «рудеральными», почти все, которые я перечислил выше, относятся к ним. Они растут на мусорных свалках, вдоль дорог и связаны с человеком, его жильём, с созданным или видоизменённым им ландшафтом. Такие сорняки могут многое говорить о том, насколько мы загрязняем и изменяем пространство вокруг, и о представлении человека расплодившейся моно-культурой, которая создаёт дополнительный ущерб в виде «вредителей» (животных-сорняков) и истощения почв. Я тоже чувствую близость с сорняками, потому что вижу в них то, что мы называем маргиналами или выключенными из социума людьми, хотя по факту выкорчевывает их само общество. Из-за этой системы общество и дальше воспроизводит таких людей-сорняков, не понимая, что они показывают на ошибки системы. Человечеству легче прополоть грядку, чем понять, о чём на самом деле говорят рудеральные фрики и уголовники.
Кроме того, сорняки в «цивилизованном» мире – это мигранты и кочевые народы, те, кто находится на периферии цивилизации, вроде самих дачников, те, кто не хочет соревноваться, но хорошо приспосабливается, те, кто понимает, что из мусора конкурентных можно сделать себе дом и лодку, санитары мира и машинисты конвейерной ленты переработки отходов, наконец, социальные индикаторы и рупоры общества, все угнетённые.
В детском садике мы с одной из девочек взяли лист А4, распластали по нему пластилин, собирали бусинки, звёздочки, иногда волосы или кусочки ниток с ковра, на котором играли дети, и клеили на лист, так начался мой путь собирателя. Дедушка работал егерем и охотником, бабушку в деревне называли «хапугой» за любовь приволочь из леса по несколько корзин с грибами, моя мама отучилась на ландшафтного дизайнера. Мы часто ходим в лес и собираем грибы, реже ягоды, но сейчас дедушка собирает медь, латунь и другие металлы и сдаёт их на переработку, как это делают на реке Мезень, куда падают части от ракет с космодрома Плесецк. Местные жители изготавливают из них лодки, части печек, используют в быту.
Прошлый текст мы закончили на истории мезенских собирателей частей ракет, больше об этой истории вы можете прочитать в материале журнала EastEast от Макара Терёшина.